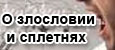Мое
детство прошло в Нью-Йорке. Мы жили с родителями в Бронксе, и в детстве мне
очень нравилось ходить в популярную в нашем районе в те годы парикмахерскую
Морриса.
Мое
детство прошло в Нью-Йорке. Мы жили с родителями в Бронксе, и в детстве мне
очень нравилось ходить в популярную в нашем районе в те годы парикмахерскую
Морриса.
Вслед за отцом и братом я входил в наполненное приятными ароматами помещение,
и Моррис неизменно встречал нас приветливой улыбкой.
Взрослые завсегдатаи его парикмахерской — евреи, итальянцы, ирландцы — сидели
в старомодных парикмахерских креслах кремового цвета. А мы, дети, играли в
специально отведенном для нас закутке. В нашем распоряжении был игрушечный,
довольно большой и блестящий красный пожарный грузовик и коробка, всегда
наполненная конфетами.
Мне тогда было около шести лет. Но Моррис относился ко мне, как к взрослому.
Когда наступала моя очередь стричься, он укутывал меня белоснежной простыней и
вопрошал:
— Ну, калегале (на идиш — уменьшительное от слова «коллега»), сделаем
квадратный затылок или естественный?
Даже в это «нейтральное» слово Моррис умел вложить нежность и тепло.
— Только, пожалуйста, осторожнее с пейсами! — обеспокоено просил его мой
отец, который был раввином Морриса.
Парикмахер точными движениями захватывал зажимами волосы на висках. Но стоило
ему прикоснуться электрической бритвой к моей шее, как я начинал ерзать и
истерично хохотать. Я боялся щекотки.
— Зай штил (в переводе с идиша — «сиди тихо»)! — шептал мне Моррис в
тщетной попытке заставить меня не двигаться в столь ответственный момент.
Заканчивая работу над непоседливым клиентом, он приносил свое секретное
оружие, которое он называл «горячей расческой», и делал последние попытки
укротить мои непослушные, торчащие в разные стороны вихры…
Подстригая моего отца, Моррис разговаривал с ним на идиш. Я не понимал ни
слова, но тяжелые вздохи и длинные паузы сеяли в моей душе безотчетную грусть.
По праздникам и по субботам я встречал Морриса в синагоге отца. И здесь он
был совсем другим человеком. Ни с кем не общался, хотя большинство в зале были
его клиентами. Садился в заднем ряду и сосредоточенно смотрел в молитвенник. В
дни, когда читали Изкор, многие выходили (если у человека живы оба
родителя, он при чтении Изкора не присутствует). Он всегда
оставался, чтобы прочесть молитву в память о людях, которые ушли из его жизни в
иной мир.
Со временем я узнал, что у Морриса, моего отца и многих других евреев нашей
общины было общее прошлое: они спаслись во время Катастрофы. Еще я узнал, что
голубоватые буквы «KL» на его правом предплечье, были клеймом, оставшимся ему на
всю жизнь напоминанием о концентрационном лагере, в котором он оказался во время
Второй мировой войны. Прислушиваясь к его разговорам с моим отцом, я обратил
внимание, что они очень часто употребляли слово «нацисты».
Прошли годы, и я узнал, что Мордехаем меня назвали в честь дедушки по линии
отца, которого в июле 1941 года убили вместе с одним из его сыновей. Тогда же
были уничтожены более пятидесяти евреев.
Став старшеклассником, я нечасто бывал дома и долго не видел Морриса. Чтобы
подстричься, мы с друзьями бегали в открывшийся в Манхеттене модный салон, где
звучала ритмичная музыка, и не было отца с его указаниями по поводу моей
прически, не было вздохов и разговоров на идиш.
Иногда, очень редко я встречал Морриса в синагоге и испытывал какое-то
чувство вины перед ним. Однажды он, столкнувшись со мной у входа в синагогу,
внимательно посмотрел на меня и удрученно покачал головой.
— Кто же тебя так постриг?! — возмутился он. — Да у него обе руки — левые…
В детстве и юности все мои встречи с Моррисом были поверхностными. Но когда
мне исполнился 31 год, я учился в аспирантуре факультета журналистики и подбирал
сюжет для серьезной статьи, я отыскал нашего с папой парикмахера с твердым
намерением разгадать тайну его прошлого. В то время он уже отправился на пенсию
(ему было где-то лет восемьдесят) и продолжал стричь моего отца на дому.
— О чем ты хочешь узнать? — спросил он на ломаном английском. — Ну, ладно,
приходи, поговорим…
Оглядывая его скромное жилище, я бросил взгляд на потускневшую черно-белую
фотографию: маленькая девочка в коляске.
— Когда-то у меня была дочь, — промолвил он, перехватив мой взгляд. — Ее
звали Ривкеле. Ей было всего пять лет, когда они забрали ее у меня. Теперь она
приходит ко мне только во снах. Меня до сих мучает мысль, что, быть может, я
виноват в том, что ее не удалось спасти. Один поляк умолял меня отдать ему
Ривкеле, хотел вырастить ее. Она была белокурой — никто и не догадался бы, что
она еврейка...».
Неожиданно Моррис протянул ко мне свои красноватые, слегка дрожащие руки и
произнес:
— Они всегда спасали меня…
— Нацистам и в гетто и в лагерях требовались парикмахеры, — пояснил он,
увидев на моем лице недоумение. — Иначе они не оставили бы меня в живых.
В моем воображении пронеслись картины из прошлого. Конечно же, я видел такое
только в кино. Только теперь у главного персонажа было хорошо знакомое мне лицо.
Польша… Моррис, примерно в моем возрасте — в полосатой лагерной униформе…
Нескончаемая вереница людей, усаживающихся перед ним на табурет… Его клиенты —
эсэсовцы, ежедневно приходившие к нему бриться, евреи, которых он брил наголо —
перед тем, как их вели в газовые камеры…
Моррис рассказал, что он работал в пяти концентрационных лагерях.
Парикмахеру, чтобы не умер с голоду, выдавали «улучшенный» паек, но он делился
едой с товарищами по лагерю, поддерживая ослабевших и больных. В 1945-м их
освободили из лагеря Дахау.
Вскоре он с женой перебрался в Соединенные Штаты Америки. В то время его жена
была уже тяжело больна и не могла больше иметь детей. Она умерла в 1970 году.
Моррис рассказал мне и о встрече с нацистом, который убил его дочь. Это было
в Германии, в зале суда над военными преступниками. Морриса пригласили на этот
суд свидетелем.
— Я плюнул этому нацистскому подонку в лицо, — произнес он срывающимся
голосом, и в его глазах сверкнул гнев.
В тот год, когда я взял у Морриса интервью, я всегда старался быть дома,
когда он приходил, чтобы постричь моего отца. И всякий раз просил, чтобы наш
семейный парикмахер постриг и меня
А потом я уехал в Израиль. И перед каждым еврейским праздником
обязательно звонил Моррису. Он уже не работал парикмахером, но поддерживал связь
с нашей семьей. У моего брата, который остался в Америке, было четыре сына. И
всех четверых, когда им исполнялось три года, в первый раз в жизни их стриг
именно Моррис.
Прошли годы. Уже нет в живых ни моего отца, ни Морриса. Теперь посещение
парикмахерской для меня — обыденная обязанность, связанная с неизбежной потерей
драгоценного времени. И ни в одной из них ни разу не возникало ощущения
таинства, не появлялось даже подобия тех чувств, которые я когда-то испытывал в
маленькой парикмахерской в Бронксе. Парикмахерское кресло кажется мне холодным и
неуютным.
Иногда, в ожидании парикмахерских манипуляций, я мысленно переношусь в
прошлое сорокалетней давности. И будто наяву слышу позвякивание ножниц в руках
Морриса и голоса — его и моего папы. Слышу, как они говорят на идиш, делясь друг
с другом своими воспоминаниями. Я по-прежнему не понимаю слов, но знаю теперь
содержание их разговоров.
Сегодня на месте старой парикмахерской Морриса — магазин канцелярских
товаров. Многие обитатели района моего детства вообще не ведают или не помнят,
что здесь было раньше. Но для меня огни старой парикмахерской Морриса все еще
горят...
Парикмахер, на иврите приглашая задумавшегося клиента в кресло, возвращает
меня в иерусалимскую реальность.
— Сделайте мне квадратный затылок, — прошу я. — Только, пожалуйста,
осторожнее с пейсами…
![]()
![]()
![]()
![]()